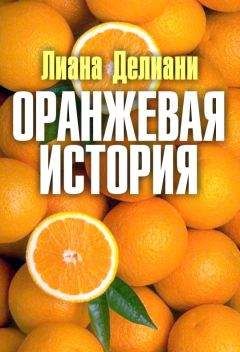Она ждала, что отец найдет ее и, если не избавит от противного нищего, то хотя бы устроит ей нормальную привычную жизнь. По вечерам, свернувшись на соломенной постели, она представляла себе, как кондотьеры отца ищут ее по городам и весям, как найдут и с поклонами препроводят в паланкин, обитый парчой и украшенный золотыми кистями. Виолу немного смущало, что они увидят ее в таком ужасном наряде, но мысленно она нашла достойный выход из положения — разумеется, Ванина, ее служанка, захватит с собой пурпурный горностаевый плащ и, закутавшись в него, она сможет с достоинством прошествовать к паланкину.
Проходили месяцы, выпал снег, и Виола все чаще задавалась вопросом — что, если это Неаполитанский король препятствует ее поискам, или хуже того, Джанкарло? Что, если нищий видел кондотьеров, которые ее ищут, и дал им проехать мимо, не подал знака, что она здесь? Ее раздражало глухое постукивание деревяшки при каждом его шаге и надсадный кашель, отвлекавшие ее, мешавшие сосредоточится на раздумьях. Но больше всего бесил Виолу монотонный, завывающий скрип гончарного круга. Однажды, не выдержав безнадежности этих звуков, она вскочила с постели и принялась бить и топтать вылепленную посуду, крича и плача от ярости. Когда слезы закончились, она вернулась в свой угол и бросилась обратно на постель. Услышав, что нищий встал и собирает осколки, она, содрогаясь, заткнула руками уши.
Утром она не шевелилась и не вставала с постели, пока нищий не ушел. Проигнорировала миску с ненавистной похлебкой и, открыв дверь лачуги, отправилась на реку. Шел снег, на Виоле было одно лишь холщовое платье простолюдинки, в которое ее переодели в день свадьбы, но ей было все равно. Она шла и шла, пока окоченевшие ноги не отказались ее держать. Зацепившись под снегом за какой–то корень, она рухнула на колени и гневно взмолилась:
— Господи! Если ты хотел покарать меня, почему не наслал болезнь? Почему я не умерла?! Все, что угодно, лучше этого!
Она еще несколько раз повторила «почему?… почему?…», потом замолчала, глядя перед собой пустыми глазами. Виола не помнила, сколько времени она простояла вот так. Самоубийство — смертный грех, вспомнилось из давних уроков каноника и, попытавшись подняться с колен, Виола обнаружила, что замерзшие и затекшие ноги ее не слушаются. Она неловко села в снег и попыталась встать, опираясь на руки. Перед глазами в этот момент почему–то промелькнуло, как нищий, опираясь на здоровую ногу, тащит за собой тележку. На этот раз ей удалось подняться, и она медленно побрела обратно.
До костей продрогшая, вернувшись в лачугу, она сразу же присела прямо к очагу. Сырое платье дымилось, медленно просыхая. Желая побыстрее согреться, Виола собралась спать прямо перед очагом, расстелив на полу лохмотья, служившие ей постелью. Несмотря на потребность в тепле, она так и не притронулась к миске с горячей похлебкой, которую, как обычно, протянул жене нищий. Ее запах и вкус были отвратительны Виоле больше обычного, вызывав, помимо привычной тошноты еще и озноб.
Ночью она проснулась от нестерпимого жара. Чувствуя, как горит лицо, Виола с пола перебралась обратно на свою постель. Прикоснувшись руками к платью, она почувствовала, что большая его часть за исключением того бока, на котором она спала, уже высохла. На какое–то время ей стало легче, но вскоре она поняла, что жар теперь исходит не от очага, а из глубин ее тела.
«Я заболела и умру. Спасибо, что услышал меня, Господи!» — было ее последней связной мыслью.
Виоле снилось, что она снова маленькая девочка, беззаботно веселящаяся под сводами герцогского дворца. Ее покойная мать, в детской памяти дочери навсегда молодая и красивая, усадив ее к себе на колени, милостиво позволяла перебирать свои украшения. Еще ребенком Виолу неодолимо притягивали таинственная красота и прозрачность драгоценных камней, теплый, солнечный блеск золота, лунный перламутр жемчуга. Когда герцогиня–мать, утомившись, передавала ее в руки придворных дам, те, в свою очередь, отводили девочку к кормилице, что кормила и укладывала ее спать. Едва Виола подросла, кормилицу отправили обратно в деревню, но сейчас, в горячечном полусне Виоле казалось, что она снова рядом, склоняется к ней, обтирая потный лоб, вливая в нее по ложке теплый бульон.
Виола проснулась от звука человеческих голосов и скрипа двери.
— Так–так, посмотрим… Дрова из лесов графа Урбино, — какой–то мужчина в коричневом шерстяном кафтане с пером и бумагой в руках войдя, первым делом посмотрел на горящий очаг. — Жжете много, на два дуката будет.
— Обычно меньше, сейчас жена болеет, — ответил нищий.
— Хочешь сказать, мне вас каждый день проверять? Вот еще, — мужчина пожал плечами. — Лет сколько?
— Тридцать один.
— А жене?
— Не знаю.
Мужчина подошел к постели и бесцеремонно заглянул Виоле в лицо.
— На вид лет восемнадцать. Так и запишу. Дети есть?
— Нет.
— Значит так, за воду… дрова, кров… плюс подушная подать… плюс торговый сбор… итого двенадцать дукатов, — закончил подсчеты сборщик податей.
— Торговый и цеховой сбор я уже заплатил.
— Неужто? Смотри, проверю у главы цеха горшечников. И с остальным тоже не тяни. С теми, кто не платит, у меня разговор короткий, — пригрозил сборщик на прощание.
Оба мужчины вышли, потом послышался удаляющийся стук копыт.
Виола слышала, как вернулся нищий, но не подняла головы. Вскоре от очага потянуло не тошнотворной луковой похлебкой, а аппетитным ароматом бульона.
Нищий подошел к постели, и Виола ощутила прикосновение ко лбу шершавой мозолистой ладони. Она слегка отпрянула и тут же почувствовала, как кружится голова.
— Жар спал, — удовлетворенно заметил нищий и отошел, чтобы вскоре вернуться с миской в руках.
Он помог Виоле приподняться на постели, взял укутывавшую ее ноги безрукавку из овечьей шерсти и набросил Виоле на плечи. После этого поставил миску ей на колени.
Виола ощутила новый вид голода — голод соблазна. Несколько месяцев она голодала, ощущая отвращение к еде, которую ей предлагали. Теперь она чувствовала голод, который можно было удовлетворить, сейчас же, немедленно, достаточно было протянуть руку. Она зачерпнула бульон ложкой и дрожащей рукой поднесла ко рту. Жидкость показалась ей нектаром, она потянулась за следующей ложкой, недоумевая, почему раньше не пробовала столь вкусного бульона. Рука от слабости дрожала, она расплескала половину на себя и обратно в миску.
Нищий, который молча наблюдал за ней, стоя у изножья постели, подошел и, забрав у Виолы миску с ложкой, принялся кормить ее. Сначала Виоле было очень неловко, но потом голод и отсутствие сил отмели прочь все возражения гордости и приличий. Наевшись, она сразу уснула, плотно укутанная одеялом.
![Лиана Делиани - Легенда о любви и красоте[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)